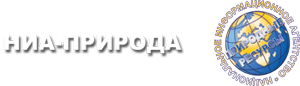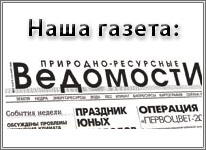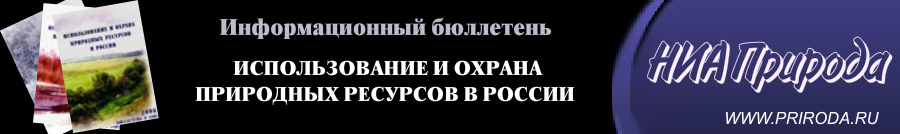Вода как идеологический ресурс
25.03.2022 21:10:00
Эксперт Информационно-аналитического Центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве МГУ, завкафедрой мировой экономики, международных отношений и права Новосибирского госуниверситета экономики и управления Денис Борисов опубликовал на сайте НАЦ МГУ статью, в которой вода в Центральной Азии рассматривается как идеологический ресурс.
Из всего спектра региональных противоречий для Центральной Азии чаще всего называется проблема воды. Из-за своего масштаба и сложности водная проблематика может породить немало «черных лебедей» для региона. Тем не менее, если говорить о воде в контексте международных отношений, то необходимо оценивать этот ресурс применительно к основным организационным формам власти – в экономике, политике и идейно-идеологической сфере.
Вода как ресурс политической власти
В Центральной Азии этот аспект незначителен, что демонстрируется в подходах стран региона к обеспечению национальной безопасности. Вода вытесняется на задворки стратегического планирования более понятными для госструктур экономическими угрозами из энергетического или финансового секторов.
Например, в Стратегии национальной безопасности Казахстана слово «вода» только единожды упоминается в 18 пункте раздела «угрозы»: «резкое ухудшение экологической ситуации, в том числе качества питьевой воды, стихийные бедствия и иные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, эпидемии и эпизоотии». Узбекистан также в доктринальных документах не выпячивает «пресную» тему, ставя ее в разряд задач общественного уровня: «повышение уровня обеспеченности коммунально-бытовыми услугами, прежде всего кардинальное улучшение обеспечения населения сельской местности чистой питьевой водой путем строительства новых водопроводных линий, последовательного внедрения современных экономичных и эффективных технологий».
В стратегическом планировании вода не определяется как коренной национальный интерес государства. В политических целях водный дефицит используют преимущественно на локальном уровне как элемент избирательной кампании в стиле «депутат торжественно сделал..»: привез бочку чистой питьевой воды, открыл водоколонку, провел водопровод и пр.
Вода в идейно-идеологической сфере
Однако в идейно-идеологической сфере вода является очень понятным и эффективным символом с высоким социальным и мобилизационным потенциалом. Понятная всем общественная бессознательная цепочка «Вода – это жизнь, нет воды – нет жизни», как и связь воды с религиозными обрядами во многих культурах, закономерно придает водной тематике ореол безусловной значимости на уровне личного и общественного восприятия. Соответственно, именно проблема воды часто поднимается на щит и используется в манипулятивных стратегиях различными акторами во внутренней и внешней политике.
Летняя эскалация приграничного конфликта 2021 г. между Кыргызстаном и Таджикистаном была спровоцирована спорным дискурсом по поводу воды: на фоне существующих территориальных разногласий вода стала одним из мотивов для мобилизации населения. Хотя с точки зрения достаточности водных ресурсов эти страны являются нетто-экспортерами.
Соответственно, государству важно отслеживать процессы мультипликации угроз общественной безопасности, когда намеренно или спонтанно происходит наложение различных угроз.
Проблема воды сама по себе не может привести к масштабной эскалации, но в сочетании с другими угрозами (криминальная активность, анклавные и территориальные проблемы, коррупционные проявления, неконвенциональная борьба за власть) становится катализатором социального конфликта. Именно поэтому важно отслеживать попытки манипуляции водной проблематикой в региональном информационном пространстве.
Вода как повод для распрей
Конфронтационный сюжет вокруг водных ресурсов доминирует в медиапространстве Центральной Азии. За годы самостоятельного существования центральноазиатских государств сознательные и неосознанные манипуляции по этой теме сформировали два основных «информационных пузыря» с заранее негативным оттенком.
Первый «пузырь» формируется вокруг конфронтационного дискурса между Узбекистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном по поводу строительства гидроэлектростанций. В публичном пространстве эти противоречия проявляются через широкий «обмен любезностями» между чиновниками, гражданскими активистами и местными общинами этих трех стран. Наиболее концентрированно содержание претензий озвучивалось на ежегодных сессиях ГА ООН:
- Таджикистан – «К сожалению, однако, мы вынуждены констатировать, что из-за отсутствия взаимопонимания и сотрудничества в регионе, а также вследствие пренебрежения к законным правам и жизненно важным интересам Таджикистана в течение последних 10 лет наша страна испытывает серьезную нехватку электроэнергии в зимний период»;
- Кыргызстан – «Стратегически важным для устойчивого социально-экономического прогресса региона является развитие гидроэнергетики. Уверены, что это будет содействовать комплексному решению множества современных и будущих проблем»;
- Узбекистан – «Вопрос обеспечения рационального использования водных ресурсов стоит достаточно остро в условиях ухудшения экологической ситуации и недостатка питьевой воды в нашем регионе и во всем мире… В этой связи мы не можем не выразить обеспокоенность в связи с планами Таджикистана и Кыргызстана построить новые крупные гидроэлектростанции с гигантскими по глобальным меркам плотинами…».
Второй негативный «информационный пузырь» сформировался вокруг водных проблем Иртышского бассейна между Казахстаном, Китаем и Россией. Считается, что активизация хозяйственной деятельности КНР в СУАР приведет к существенному сокращению поступающей воды из Черного Иртыша в северо-западные районы Казахстана, при этом китайская сторона не подписала Хельсинкской конвенции об охране и использовании трансграничных водотоков и международных озер. Практическая составляющая российско-казахстанского диалога вокруг проблем Иртыша также развивается в экологическом ключе. В 2020 г. РФ и Казахстан утвердили совместную программу сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна Иртыша на 2021-2024 годы.
Вода как основание для сотрудничества
Представители стран региона независимо друг от друга регулярно пытаются привлечь внимание международного сообщества и фондов к проблеме Аральского моря. За последние 30 лет на сессиях Генассамблеи ООН были озвучены следующие инициативы:
– создать спецкомиссию по Аралу (Узбекистан – 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000 гг.);
– создать под эгидой ООН международный механизм координации усилий в целях смягчения последствий гибели Арала (Таджикистан – 2005 г.);
– придать Международному фонду спасения Арала статус института ООН (Казахстан – 2007 г.);
– разработать Спецпрограмму ООН для бассейна Арала и выделить аральскую проблематику в отдельное направление деятельности ООН (Туркменистан – 2018 г.);
– принять спецрезолюцию ГА ООН об объявлении региона Приаралья зоной экоинноваций и технологий (Узбекистан – 2020 г.).
Одним из этапов региональной кооперации по воде стал павильон стран Центральной Азии на Всемирном экологическом форуме в Глазго (2021), где пять государств совместно выступили по экологической повестке и обсудили создание Центрально-Азиатского климатического хаба как единой платформы для выработки коллективных подходов в решении климатических проблем.
ИАЦ МГУ